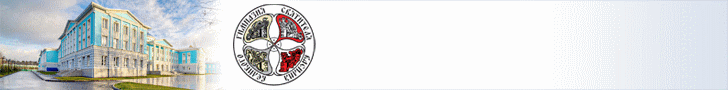24 июня 2016 года
В декабре 2014 года в рамках Татьянинского творческого содружества в актовом зале храма смц. Татианы состоялась лекция «Как читать Гомера в XXI веке?». Удивительную историю о том, как в 1930-е годы американский исследователь Милмэн Перри отправился на Балканы, чтобы записать сербского сказителя Авдо Меджедовича и затем выдвинуть «устную теорию» происхождения гомеровского эпоса, рассказал Владимир Файер, филолог-классик, выпускник филологического факультета Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, а ныне доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
На этот раз с Владимиром Файером встретились корреспондент st-tatiana.ru Мария Разгулина и фотограф Иван Джабир, чтобы выяснить, как часто в филологии проводятся эксперименты, откуда мог знать Шекспир фамилии Розенкранц и Гильденстерн и что нужно, чтобы стать писателем.
— Владимир, мой первый вопрос — как Вы решили стать филологом? Довольно неожиданный выбор для подростка, который заканчивает школу, тем более для мальчика.
— Мне всегда было ясно, что мои интересы связаны со словом. Началось с того, что в детстве я писал стишки, но это было не столько творчество, сколько словесная игра. Ежедневно, по нескольку часов я читал, и мысль о том, что и дальше я буду связан с книгами, была абсолютно естественна. В 1990 году я поступил в 9-й гуманитарный класс 57 школы. Эта известная московская школа была знаменита математическими классами, но годом ранее там открыли еще и гуманитарную специализацию. А оказался я там потому, что мне была интересна именно литература, и можно сказать, что решение стать филологом было осознано уже в 9 классе. Сразу же я увлекся латынью, а в 11 классе, когда в школу пришел прекрасный учитель, который занимался с нами стиховедением, я понял, что главной темой моих занятий должно быть исследование античного стиха.
— А что сказали родители? И чем они занимались/занимаются?
— Отец умер, когда мне было 7 лет. Он был инженером, и его всегда интересовали книги, он собрал хорошую библиотеку. В советское время многие этим занимались, но отец делал это особенно любовно. Лучшие книги у него стояли во втором ряду, чтобы их никто не зачитал, доставались из-под ключа… Уверен, мой выбор ему понравился бы. А мама у меня геолог. Она всегда думала, что её сын должен заниматься чем-то академическим. То, что я стал не журналистом или рекламщиком, а именно филологом, было для неё очевидным и естественным решением.
Позднее я постепенно и с некоторым удивлением открывал для себя, что не все люди так рано выбирают профессию. Когда выросли мои собственные дети, я понял, что скорее типично обратное: даже в 11 классе, когда нужно сдавать те или другие ЕГЭ в зависимости от будущей специальности, школьникам трудно выбрать свой путь. Однако в нынешней системе человек, проучившись несколько лет в институте, может изменить свою траекторию, сделать иной выбор. Хотя я, как многие другие в моём кругу, возмущался введением у нас Болонской системы, теперь я большой адепт деления на бакалавриат и магистратуру. Человек учится 4 года, получает базовое образование, а потом на второй ступени может взять совершенно другую специальность и учиться с гораздо более ясным сознанием того, что ему нравится, что ему удается, что ему нужно.
— Вы говорили об интересе к чтению, который возникает ещё в детском возрасте. Как Вы думаете, он должен прививаться в школе или в семье?
— Ни то, ни другое. Школа играет очень маленькую роль в интересе или отсутствии интереса школьников к чтению. Влияние семьи сильнее, но самую большую роль играет общество в целом. Родители могут весь лоб себе разбить, но те общественные изменения, которые благоприятствуют или не благоприятствуют интересу к чтению, они переломить не смогут. Это опять из моего личного опыта, но здесь всё сложно. Кто-то из моих детей любит читать, кто-то — нет.
— Сколько у Вас детей?
— У меня пятеро детей, из них двое маленьких. Старший сын уже взрослый, он два года как закончил школу. Он довольно много читает, и я очень ему завидую, у меня сейчас на это времени нет. А второй и третий мои сыновья учатся сейчас в школе, но читают мало. Энтузиазма особого нет даже по отношению к детективу или фэнтези.
— Говоря о школе, что бы Вы включили бы в школьную программу по литературе, что действительно радовало бы детей?
— Не могу ответить со знанием дела, потому что я в свое время читал всё подряд. Это было для меня естественно. А для человека, который не читает всё подряд, нужна особая схема, в значительной мере индивидуальная. Мы не должны говорить «Если ты не прочитал «Преступление и наказание», то ты какой-то неполноценный». Я очень люблю «Преступление и наказание», это книга, которая для меня многое открыла, но, наверное, универсальных рецептов нет. Школьникам нужно что-то подсовывать, и пусть они выберут какие-то дурацкие с нашей точки зрения книжки, лишь бы читали. Так что в разрезе школьной программы рецепт, на мой взгляд, лежит где-то на стыке индивидуального выбора школьника и индивидуального выбора учителя. Идея о том, что учитель оказывает образовательные услуги и должен по прейскуранту выдать строго определенную программу, кажется мне чудовищной. Учительское творчество никто не отменял. Учитель имеет право не любить какие-то книги из программы, имеет право признаваться в этом. А кто-то из учеников, кто любит эти книги, будет с ним ругаться, и как раз из этого у других детей может возникнуть интерес. Какие-то общепризнанные списки классических произведений должны существовать, но стоит делать их максимально необязательными.
— А писательский дар — он врождённый или приобретаемый? Круг чтения может на него как-то повлиять?
— Должны быть и способности, и развитие этих способностей, но не менее важно третье, не воспитанное искусственно и не врожденное. В хорошей книге, как мне кажется, отражается уникальный личный опыт писателя. Конечно, писатель может осознанно искать на свою голову каких-то приключений, но всё равно этот опыт появляется сам по себе, не искусственно. И не всегда он связан с экзотическими путешествиями и редкими профессиями, иногда человек обретает особый взгляд, не выходя из кабинета. Но все-таки без особенного опыта — внешнего или внутреннего — трудно создать по-настоящему интересное произведение.
— Если говорить о писательском опыте и писателях признанных — недавно, например, был юбилей Шекспира, и мы все знаем, что о жизни Шекспира снято много фильмов, и не только документальных, а таких, где художественно осмысляется его биография. О ком из русских писателей, как Вам кажется, было бы интересно снять художественный фильм?
— Даже если про писателей снимают интересное кино, оно оказывается в значительной степени далёким от того, какие они были писатели. Наверное, было бы интересно снять фильм или даже сериал о Гумилёве. Это могло бы быть весьма кинематографично — с Африкой, Первой мировой, возможно, с белогвардейским подпольем… Но как это связано с его стихами? Вместо Гумилёва здесь мог бы быть какой-то человек, который ничего не писал, но тоже испытал какие-то приключения. Про любого писателя можно снять так, чтобы специфика его произведений отражалась на экране, но это будет чудо. Как Тарковский снял про Андрея Рублёва — это может быть спорно, но это фильм-событие. Один великий человек снимает про другого. Или прекрасный фильм «Часы», где Николь Кидман играет Вирджинию Вульф.
— Вы читаете современную литературу? Что-то можете порекомендовать из неё?
— Интересных книг выходит немало, но они предназначены для разных аудиторий. Кому именно рекомендовать? Есть жесткие и эпатажные произведения, которые не посоветуешь и большинству взрослых читателей, хотя эти книги также вносят свой вклад в литературный процесс.
Могу сказать, что из ныне живущих и ещё не пожилых авторов на меня большое впечатление произвели произведения Майи Кучерской. Она нашла золотую жилу, тот самый уникальный опыт, который, как я говорил, должен обрести каждый писатель. Майя Александровна, с одной стороны, пишет о современной православной культуре достаточно безжалостно, но она пишет о себе. Это очень подкупает. Я говорю прежде всего о её «Современном патерике» — это была та область, которой на тот момент почти никто не занимался, и она сказала в ней новое слово. Конечно, есть и другие важные для меня авторы в этой теме, например, матушка Олеся Николаева, которая пишет о церковной и околоцерковной среде достаточно давно.
— Ещё один вопрос о современной литературе — в филологическом мире Нобелевская премия в нынешнем её виде воспринимается серьёзно? Или все понимают, что это настолько политизированное событие, что её присуждение не отражает реальной картины?
— Нобелевская премия — это как футбол. Чтение — это физкультура, зарядка, фитнес, если хотите. А тут — футбол высоких достижений. Есть много людей, которые занимаются физкультурой, но не интересуются большим спортом. А есть, наоборот, те, кто гантельку поднять не могут, но садятся с пивасиком смотреть футбол. Я ни к той, ни к другой категории не отношусь, если говорить о спорте. Что же касается литературы, то в мире существует огромное количество хороших писателей, и, по-моему, любой из них может получить эту премию. Это лотерея. Иногда среди этих неплохих писателей попадаются важные, особенно интересные и крупные. У них шансов получить Нобелевскую премию больше. Это не столько политика, сколько именно лотерея плюс разнообразие: эти получили в прошлом году, значит в этом году должны получить другие… Или как на пресс-конференции, где собралась тысяча журналистов, но спросить могут только двадцать человек. И все тянут руки, и некоторых спрашивают. Почему? Кому-то подсуживает организатор пресс-конференции, кого-то спросили просто потому, что в пустом месте была одна рука, а кто-то оказался самым наглым — вскочил, схватил микрофон и задал свой вопрос. Но, подчеркну, это мое личное мнение, а как премия воспринимается в филологическом мире, не знаю. По-моему, такого единого сообщества просто нет.
— Вы читали в Татьянинском храме прекрасную лекцию о Гомере и эксперименте, когда один американский исследователь отправился на Балканы, чтобы записать сказителя, который рассказывал очень большого объёма стихотворные произведения, просто импровизируя. А есть в филологии эксперименты кроме этой истории? Может ли существовать эксперимент в этой науке?
— Спасибо за добрые слова о моем выступлении. Мне, кстати, очень нравится эта инициатива: звать наших прихожан с популярными лекциями.
Мне очень нравится определение Аверинцева о том, что филология — это служба понимания. Как есть служба спасения, это служба понимания, которая обеспечивает преемственность и связанность культуры и помогает людям понять какие-то тексты. Или культурно значимые тексты прошлого, или непростые, художественно-выразительные тексты настоящего. Откуда филолог знает, что он понимает текст правильно? Мне кажется, что здесь легко возможны эксперименты. Взять одно и то же стихотворение, посадить нескольких филологов в соседних комнатах написать комментарий к этому стихотворению и потом сравнить, что у них получилось. Что показалось важным, что показалось непонятным и какие ответы на эти непонятности нашёл каждый из них. А если говорить о работе архивной, когда разыскиваются факты, которые помещают то или другое произведение в контекст, здесь, наверное, эксперимент невозможен. Кто какие факты нашёл, кто какие архивные документы поднял, тот и молодец.
Хотя в самом вопросе я вижу не очень правильную установку: дело в том, что наши современные представления о мире требуют, чтобы все науки были похожи на физику. Требуют потому, что всем понятно, что сделали физики: запустили человека в космос, например. То есть они молодцы, а все остальные должны под них подстраиваться. И появляется эксперимент в филологии, эксперимент в истории. То есть возникает подспудное желание у разных людей, в том числе у самих учёных, и уж тем более у публики, сделать так, чтобы всё было доказуемо и проверяемо. И многие строят своё определение науки именно на этих основаниях. Здесь мы оказываемся в ловушке, потому что наука — это способ рационального постижения мира, и в каких-то областях эксперимент невозможен, даже если нам очень хочется его провести. Я заговорил об этом потому, что немного занимаюсь историей филологии в XX веке, и мне очень интересен тот момент, когда возникла структурная (или математическая, как её многие называют) лингвистика. Это судьбу филологии затронуло очень сильно, потому что многие филологи бросились в эту область, когда стало ясно, что имеет смысл делать машинный перевод, что развиваются другие области, которые мы сейчас называем компьютерными или IT-технологиями.
— Ясно. Но если с Гомером благодаря эксперименту стало более или менее понятно, что такая ситуация была возможна…
— С одной стороны это так, но в подобных случаях возникает вопрос о корректности сравнения. Действительно, важно убедиться, что поэму в 15 тысяч стихов можно создать путем импровизации, но этот факт не является строгим доказательством того, что Гомер сделал именно так. Исследования М. Пэрри и А. Лорда ответили на очень многие вопросы, но новых вопросов стало больше. То есть это тот самый случай, когда объём наших знаний увеличивается, но увеличивается и площадь соприкосновения с неизвестностью. Вопросов стало только больше, просто теперь они другие.
— Да, важное уточнение. Ещё одна фигура, которая вызывает всегда в литературном мире споры, — это Шекспир. Есть миллион версий, но, с Вашей точки зрения, могло ли такое теоретически быть, что человек за 52 года жизни пишет столько произведений такого уровня? Возможен ли такой опыт и такой литературный талант? Или это был не Шекспир, а кто-то другой? Что Вы думаете про эту историю?
— Я интересовался этим вопросом, хотя я совершенно не англист. Но вопрос настолько животрепещущий, что я изучил одну из неортодоксальных книг по шекспировскому вопросу: «Игру об Уильяме Шекспире» Ильи Гилилова. Она, конечно, популярная, в ней отсутствуют ссылки, но в этой книге я нашёл один факт, который мне кажется по-настоящему важным, если, конечно, верить тому, что там написано. Факт в том, что фамилии Розенкранц и Гильденстерн встречаются в списке выпускников Падуанского университета, в котором учился один из предполагаемых «настоящих Шекспиров» — Роджер Мэннерс, граф Рэтленд. И учились они в то же самое время. Этот факт мне кажется доказательством того, что граф Рэтленд, если не был автором «Гамлета», то с автором «Гамлета» общался.
Было ли это общение тесным? У Пелевина была такая парочка революционных матросов Жербунов и Барболин. Вот, я прочёл в «Чапаеве и Пустоте» про Жербунова и Барболина и запомнил эти две фамилии. Они в фонетическом отношении интересные. Я мог бы эти фамилии услышать от своего случайного сотрапезника, запомнить и вставить в своё произведение. Так что сухой остаток от книги Гилилова — то, что автор Гамлета как минимум несколько раз сидел за столом с графом Рэтлендом. Это очень важный филологический факт. Но в целом рассуждения, которые мне до сих пор попадались, кажутся мне достаточно слабыми.
И еще: шекспировский вопрос кажется мне чуть-чуть переоценённым. Для простого читателя речь идёт только о том, какую картинку мы печатаем под обложкой — портрет этого человека или другого. И даже если Шекспир — это псевдоним, значит, он должен оставаться на книге. Эпоха нам известна. Комментарий, который мы пишем, зависит в большей степени от эпохи, чем от того, был ли простолюдином или лордом автор «Гамлета». Иными словами, весь этот шум нас уводит от важных вопросов (какое должно быть символическое понимание тех или иных мест у Шекспира) в плоскость биографическую. Хотя биографические факты тоже проливают тот или другой свет на конкретные места в произведениях Шекспира.
— Но это один человек?
— Да, это существенный вопрос, но я не очень вижу, какие у нас могут быть способы на него ответить. Те аргументы, которые я видел, носят в основном умозрительный характер.
С другой стороны, для полноценного понимания текста важно знать, кто этот текст произнес или написал.
Приведу мой любимый пример. Вот Ломоносов переводит «Памятник» Горация довольно близко к тексту:
«…что мне беззнатный род препятством не был, чтоб внесть в Италию стихи эольски…».
Отец Горация был вольноотпущенником, из социальных низов, а вот он стал знаменитым поэтом. Ломоносов тоже из низов и стал знаменитым поэтом. Вроде бы, русский поэт от себя ничего не говорит, но в данном случае, переводя чужие слова, он говорит и о себе. Этот факт кажется мне важным. Или, например, Фет тоже переводил «Памятник» Горация:
«И скажут, что рожден, где Ауфид говорливый cтремительно бежит, где средь безводных стран c престола Давн судил народ трудолюбивый, что из ничтожества был славой я избран…».
Мы помним, что в биографии Фета был этот ужасный период, когда его признали незаконорожденным и недворянином. Он, от рождения считавшийся русским дворянином Шеншиным, вдруг стал иностранным подданным Фетом. В нашу эпоху разводов и неполных семей мы не можем себе представить, насколько мучительной для поэта была эта потеря идентичности и утрата надежного положения в обществе. И вот наконец он добился, что его признали Шеншиным, а Фет сохранился как артистический псевдоним.
И когда он пишет (уже после возвращения имени) «из ничтожества был славой я избран», мне видится в этих переведённых из Горация словах личные слова самого поэта. Так что нередко дословная цитата получает иной смысл или хотя бы дополнительные оттенки в устах другого человека. Об этом писал ещё Борхес в «Пьере Менаре, авторе «Дон Кихота»»: там рассказывается, что некто Пьер Менар издал «Дон Кихота» до запятой точно так же, как у Сервантеса, но только со своим именем. И как меняется текст внутри — текст, который не изменился, — оттого, что другой автор на обложке. Вот такой мыслительный эксперимент предлагает нам Борхес. Этот мыслительный эксперимент кажется мне полезным.
Таким образом, определить кто автор — важно, но все-таки история с Шекспиром кажется мне чуть-чуть переоценённой. Разбираться в тонкой шекспировской символике и рассматривать ее в контексте эпохи, в контексте других произведений и исторических событий, разгадывать эти символы и намёки — иной раз для этого и не нужно знать, какова фамилия автора.
— А Вы сами пишете художественные тексты?
— Без этого не обходится. Главным образом я пишу детские стихи. Иногда не только их, но остальное, к счастью, никто не читает (смеётся). А детские стихи, я надеюсь, найдут путь к соответствующей аудитории. Мы работаем над этим.
Количество просмотров — 445